Михаил Мугинштейн: «У одного только Мусоргского главным персонажем становится История»
Михаил Мугинштейн, историк оперы, музыковед, критик, рассказывает об опере Мусоргского "Борис Годунов" и о важности её постановки. Московский журналист Илья Овчинников подготовил это интервью накануне премьеры в Женеве и лекции Михаила Мугинштейна в клубе Lemanika.
— Женева, казалось бы, в стороне от европейских оперных столиц. Почему именно эта постановка «Бориса Годунова» обращает на себя наше внимание?
— Европейская оперная карта очень интересна, и далеко не всегда на ней должны превалировать театры, которые мы привыкли считать знаменитыми: ни Ковент-Гарден, ни Венская опера не гарантируют интересной продукции сами по себе. Известно, что Венская опера тяготеет к некоей буржуазности, иногда очень приличной, очень красивой и вкусной, иногда нет… но в русском сознании до сих пор существуют великие театры: Ла Скала, Венская опера, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера – все они с точки зрения режиссуры сегодня работают не всегда продуктивно и редко дают выдающиеся результаты.
А есть и не такие крупные, например, театр во Франкфурте-на-Майне: там 10-12 премьер в году, и он признан лучшим театром года по версии журнала Opernwelt, ведущего оперного журнала.
Поэтому, когда мы говорим о европейской оперной сцене, надо быть осторожными: скажем, Цюрих гораздо более известен, чем Женева, в Швейцарии он занимает безусловно ведущую позицию и дает разные постановки – иногда очень сильные. Женева – театр более спокойный, хотя и с пафосным названием Grand Théâtre de Genève – Большой театр Женевы. Он долгое время был на реконструкции, сейчас открывается вновь, что само по себе интересно, но самое главное – «Борис Годунов» Мусоргского.
Для меня Мусоргский – не просто великий композитор; его опера – абсолютный прогноз русской истории, мне кажется, навсегда. Уже то, что «Бориса Годунова» Мусоргского ставит хороший режиссер Маттиас Хартман, представляет безусловный интерес. И дело не в Женеве, которая действительно не является мамонтом европейского оперного театра, а в тех обстоятельствах, о которых я сейчас сказал: в Германии оперные театры – через каждые 50 км, в Швейцарии есть Базель, сравнительно небольшой город со сравнительно небольшим городским театром. Но там могут быть очень интересные постановки.
А уж если дело касается Мусоргского, конечно, надо идти и смотреть.
— За последние полгода это как минимум вторая европейская постановка «Борис Годунова», которая попадает в наше поле зрения. Для «Бориса» это обычная частота или высокая?
— Более или менее нормальная. Нам с вами надо хорошо представлять себе уровень популярности русских опер в мировой афише: он не так высок, как многим кажется. Естественно, доминирует «Евгений Онегин», но даже «Пиковая дама», думаю, уступает второе место «Борису». И это понятно: если «Евгений Онегин» показывает энциклопедию русской души и некий срез русской дворянско-интеллигентской ментальности, то Мусоргский отражает трагедию русской истории.
Оперы Мусоргского – величайшие образцы, им нет равных в историческом жанре не только у русских композиторов, которым до Мусоргского безумно далеко, но и у западных. И вот почему: у всех у них история предстает либо декоративным фоном для лирических линий, как у Чайковского в «Орлеанской деве», либо выражена сильнее, как у Мейербера, по принципу триады: история – ситуация – индивидуальная судьба человека. Но только у одного Мусоргского История становится главным персонажем. Только у него.
Режиссер Маттиас Хартманн, дирижер Паоло Арривабени, в главных партиях – Михаил Петренко, Алексей Тихомиров, Сергей Хомов, Виталий Ковалев и другие.
И, конечно, обе драмы Мусоргского – это трагедии о русской истории. Ничего подобного я ни у кого больше не знаю. Для меня это просто космос, в котором все сказано уже о судьбе России, навсегда. О роковой повторяемости круга и так далее.
Для русских «Борис» имеет мощное болевое проникновение; надо это понимать и не прятаться от этого: многие прячутся и не хотят понимать трагических откровений автора. Если идет речь о мифологии Вагнера, мы говорим: здесь и сейчас, везде и всегда. Но Мусоргский единственный из оперных композиторов-историков может то же самое сказать о России: здесь и сейчас, везде и всегда. Частота исполнений «Бориса» несравнима с операми Верди, Моцарта, Вагнера, Рихарда Штрауса, Пуччини. Но в мире это репертуарное название, чего не скажешь о «Хованщине».
— Постановка «Бориса Годунова» всегда поднимает вопрос редакции: здесь, как и в Париже, ставится первая, что в мире делается не так уж часто, верно?
— На сегодняшний день в оперном цехе вторая редакция считается устаревшей, хотя это очень сложный вопрос: Евгений Левашев, известный специалист по Мусоргскому, насчитывает семь редакций «Бориса Годунова»! Но в театральной практике существуют две: первая – без польского акта, без любовной линии с Мариной Мнишек, без сцены под Кромами. И вторая, где всё это есть. У нее свои плюсы, многие любят ее больше, но первая – сжатая до предела пружина, сгусток трагедии длиной 2 часа 10 минут без перерыва – куда предпочтительнее с точки зрения верности принципу пушкинской философии истории.
Надо сказать об оркестровке: до сих пор есть люди, в том числе специалисты, не воспринимающие оркестровку Мусоргского, считая ее корявой. Это пошло от Римского-Корсакова, – великого оркестровщика – который в свое время безусловно спас друга, но раскрасил всё такими роскошными красками, что исказил замысел автора. Я своими ушами слышал слова проректора Петербургской консерватории, находясь в его кабинете: дескать, напротив кабинет Глазунова, который терпеть не мог авторскую оркестровку «Бориса», считал, что ее спас только Римский, и я тоже так считаю… Да, такие мнения есть, опера в оркестровке Римского-Корсакова до сих пор идет в Большом театре, и не только. А это очень важный вопрос: как бы ни был обучен Мусоргский оркестровке, гений слышал именно так. Эта острота царапает наш слух, привыкший к заполненной вертикали оркестра, но она и не должна тут превалировать. «Пустоты» и «царапины» партитуры Мусоргского говорят гораздо больше о России, чем прекрасный малиновый звон колоколов Римского-Корсакова.
— Когда ставится первая редакция, особенно много зависит от дирижера и драматурга; в парижской постановке необыкновенно важную роль играл Владимир Юровский. Какова по вашим ожиданиям роль дирижера здесь?
— Итальянский дирижер Паоло Арривабени известен мне только по записям; на европейском рынке это нормальный ангажированный дирижер, особенно в итальянском репертуаре. Жизнь заставила меня быть осторожным: сейчас все стали «великими» и, когда я слышу слово «великий» в адрес режиссера или актера, сразу думаю: как тогда называть Феллини или Чаплина? Как часто мы убеждаемся – вы можете это подтвердить – в том, что медийно раскрученные имена оказываются слабее «нераскрученных»! Последний концерт лауреатов премии Casta Diva это доказал, фейсбук наполнился вопросами «как же так»: люди, привыкшие к известным именам, не знавшие Владислава Сулимского, вдруг обнаруживают, что это выдающийся певец!
Что касается Арривабени, я бы не хотел делать прогнозов по предсказуемому сценарию: итальянский дирижер, не самый знаменитый, не Шайи, не Мути и не Аббадо, делавший выдающиеся трактовки Мусоргского, этому я живой свидетель. Понятно, что у Арривабени нет такого имени, но почему непременно должно получиться средненько? Знаете, про живописцев любят говорить «художник второго ряда», но у них часто бывает одна-две картины, которым позавидовал бы и художник первого ряда! Поэтому, оценивая каждого артиста, художника, живописца, нам надо быть толерантными, гибкими и осторожными. И говорить, что Арривабени не сможет это сделать хорошо, потому что он не Мути, я отказываюсь: мы и у Мути слышали не очень удачные трактовки, скажем, «Волшебной флейты» Моцарта.
— Совершенно верно, в 2005 году в Зальцбурге. Ему удалось сделать эту оперу скучной.
— Да, поэтому давайте будем надеяться на удачное музыкальное решение. Тем более что поют известные певцы, в том числе русские: Михаил Петренко (Борис Годунов), Алексей Тихомиров (Варлаам и в один из вечеров также Борис), Виталий Ковалев (Пимен). Хартман тоже ставил интересные спектакли, и я надеюсь, что всё сложится. Вот вы упомянули парижскую постановку, где дирижировал Юровский: судя по критике и по видеозаписи, спектакль не производит впечатления сильной режиссерской работы. Хотя поставлен в знаменитом европейском театре Опера Бастий, с замечательным русским дирижером Владимиром Юровским, которого я чрезвычайно высоко ценю. Совершенно не исключено, что в женевском театре Хартман, режиссер не такой известный, как Иво ван Хове (выдающийся режиссер – но в драматическом театре, и это отдельный вопрос), сможет сделать постановку лучше парижской. Такова реальность оперного рынка.
— Если суммировать сказанное, что в этой постановке самое ожидаемое лично для вас?
— Я живу на перекрестке между теорией и практикой, и для меня чрезвычайно важна связь с произведением, что сегодня многими отрицается. И не только режиссерами, но и критиками. Сегодня в ходу мнение, согласно которому в 2018 году говорить о связи с произведением – отстой. Режиссер игнорирует ДНК автора, делает свою историю, и это не мой идеал. Для меня важен диалог – сложный, проникновенный, глубочайший – с произведением по принципу большого, понимающего ухаживания за дамой по имени Опера. А не наскока на нее: именно в любовном диалоге рождаются откровения спектакля.
Для меня всегда очень важно, что Опера – дама, за которой ухаживает кавалер по имени Спектакль. От того, насколько глубоким толкователем, интерпретатором, искусным любовником является этот кавалер, зависит, расцветет дама на сцене или нет! Дирижеры в этом смысле более консервативны, хотя и не все, например, Курентзис совсем не консервативен в общении с произведением. Но если режиссер добывает новые смыслы из партитуры автора – вот этого я жду. Открывает новые смыслы, новые грани, новые припеки, которых я не ожидал, – но обязательно в диалоге с произведением.
— Отчего вообще ту или иную оперу начинают ставить чаще обычного? В минувшем сезоне в России не менее четырех раз ставили «Царскую невесту», например.
— (Смеется.) Я бы хотел думать, что это имеет какие-то социально-политические выходы, акценты. Мы понимаем, что сама идея тоталитарного управления открывает нам окна и, может быть, даже шлюзы во всю русскую историю, начиная от Ивана Грозного. Опричнина, которая существовала в его времена, в каком-то смысле существует и сегодня – в акцентировании роли силовиков в нынешней России и так далее. Можно думать об этом, когда в редакцию «Новой газеты», как мы читали в новостях, подбрасывают отрезанную баранью голову: «Что изменилось со времен Ивана Грозного?» – можем сказать мы и опять вспомним Мусоргского: он об этом предупреждал!
Однако я не считаю, что с точки зрения всей российской оперной карты тут существует строгая, продуманная, выверенная политика. И, зная контекст, зная постановку Мариинского театра, – хотя я и не видел постановок в «Зазеркалье», в Астрахани, Владивостоке – думаю, что это носило скорее спонтанный характер. Дескать, «Царская невеста» давно не шла, давайте поставим. В итоге в одном только Петербурге идет две «Царских», если не три… Поэтому, с одной стороны, я немного фантазирую: может быть, кто-то руководствовался социально-историческим и даже политическим акцентом?
С другой стороны, кому-то это просто подходило для труппы, для новых певцов, почему бы и не сделать «Царскую». Нужно ли это только с прагматической точки зрения расстановки спектаклей в афише? По-моему, нет.
#
Автор титульного фото: Светлана Линд
Беседовал: Илья Овчинников
- Марина Давыдова:«Если я могу не воровать у зрителя 20 секунд, я этого делать не буду» - 1 мая 2019
- Александр Колмановский:«Чтобы понять, что в головах у детей, достаточно представить себе реакцию взрослого» - 26 января 2019
- Илья Колмановский:«Теперь именно Китай может оказаться родиной человечества» - 15 января 2019
Публикация подготовлена при содействии нашего партнера в Женеве — клуба интеллектуального досуга Lemanika.






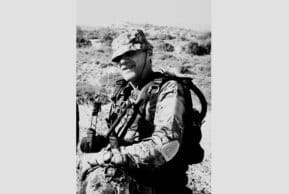







Поделитесь публикацией с друзьями