Александр Хургин. Мемуарные байки: Центрально-Боковское детство
Приличные люди, дожив до определённого возраста, пишут мемуары. Как встречались со знаменитостями, что они им говорили. И так далее. Я тоже вроде кое с кем встречался и тоже пробовал об этом написать. И как-то так у меня получалось, что не это главное. А что?
Похоже, самая обычная жизнь, экзистенция, так сказать, в чистом виде. Особенно если её хорошо отжать. Конечно, в результате отжима неизбежно получатся байки. Даже если не смешные, а грустные, всё равно байки. Всего лишь байки. В общем, какова жизнь, таковы и мемуары.
Баба Даша
В детстве у меня была нянька. Баба Даша. Огромная бабища из Ростовской области с ногой сорок третьего размера. Жили мы в небольшом шахтёрском городе Боково-Антраците, родители работали врачами на две ставки, яслей не было. Баба Даша была у меня третьей по счёту.
Первую мама попёрла за то, что к ней в их отсутствие приходил мужик, вторую за то, что она жевала хлеб, заворачивала его в тряпку и давала мне сосать. Баба Даша ничего такого не делала и задержалась надолго. Зато она меня воспитывала.
Когда я не хотел спать, она не пела мне колыбельных и не баюкала. Она говорила: «Спы, а то я тоби зрОблю!». И я моментально засыпал.
Так вот, эта баба Даша говорила «видмедь». Мама — почему-то «медведь». Как-то я спросил:
— Мама, как правильно — «видмедь» или «медведь»?
— Видмедь, Алик, — опередила с ответом баба Даша, — видмедь.
И я стал говорить «видмедь».
А ещё баба Даша время от времени жаловалась родителям, мол, алкаши проклятые украли из подвала ведро солёных огурцов. Или помидоров. Родители реагировали спокойно: ну, украли, так украли. Пока маме на приёме один больной не сказал: «Ох и вкусные у вас, Татьяна Львовна, огурцы».
— Откуда вы знаете? – опешила мама.
— Так ваша нянька их на базаре продаёт, — сказал мамин больной.
Тут-то и задала себе мама вопрос, до которого могла бы додуматься и раньше. Вопрос такой: «Откуда баба Даша знала, что из бочки украли именно ведро огурцов?».
Но ей над этим задумываться — даже в голову не приходило. Видимо, голова другим была занята.

Когда мне исполнилось три года и меня взяли в детский сад, бабе Даше пришлось уехать.
Я оплакивал её отъезд много дней. И с родителями не разговаривал.
Дядя Степа
Работали мама и папа, как я уже сказал, на две ставки.
Кроме того, они «ходили со страховым дедом» — так это называлось у нас дома. То есть подрабатывали по вечерам, поскольку ставка врача была 600 рублей (до реформы 1961 года). Тогда со страховым агентом к клиенту, желавшему застраховать свою жизнь, приходил врач и осматривал его на дому. Как-то этот дед зашёл к нам. Мне было года три, и я знал на память всего Чуковского, Маршака и частично Михалкова-отца.
Сижу я, значит, на полу, играю себе тихо с верблюдом – был у меня верблюд пластмассовый, — никого не трогаю. А этот дед – большой такой, в длинном дождевике и с бородой – ко мне пристаёт с разговорами. И, конечно, просит:
— Покатай меня на верблюде.
А я, конечно, ему отвечаю:
— Нет.
Он спрашивает:
— Почему?
А я:
— Дядя Стёпа, вы откуда? Вы раздавите верблюда.
Страховой дед просто обалдел. От восторга.
— Да он у вас – кричит, — стихами говорит, — и как меня зовут, помнит.
Ну, не знал он детских стихов классика. А я не знал, что зовут страхового деда Степаном Григорьевичем (в отчестве не уверен, но кажется – так).
ПогодИны
Фамилия единственного милиционера, имевшегося на шахте, была Погодин. Почему я об этом знал – не представляю. Но, как выяснилось, знал. А выяснилось это так. Летом мы с родителями поехали в Ялту. Шли по набережной, а навстречу нам шёл целый милицейский наряд. Человека три-четыре.
— Мама, мама, — заорал я, — смотри, погодИны идут.
Нехорошие слова
На шахте Центрально-Боковской, где мы жили, люди разговаривали матом. Не ругались матом, а им разговаривали. Причём все — мужчины, женщины, старики, дети, большие начальники, врачи и даже некоторые учителя.
Когда мы с однокашником приехали после института в те края и пришли устраиваться на работу, томная, очень красивая секретарша директора шахты «Запорожская» взяла наши бумажки, вошла в кабинет, и из-за двери мы услышали: «Там два каких-то пидора к тебе просятся. Молодые, ибиомать, специалисты».
Потом нас, как положено, повели в шахту — знакомить с выработками. И вот, идём мы с мастером вниз по лаве — ремонтная смена, оборудование стоит, тишина. И только струя воздуха доносит снизу один сплошной мат.
Причём такой, что я думал, сейчас там случится смертоубийство, не иначе. Тем более что и удары молотка тоже оттуда долетали. А когда мы подошли к источнику мата, выяснилось, что двое рабочих очистного забоя мирно перезаделывают шланг орошения комбайна и дружески беседуют о жизни.
Но это было позже. А когда я был ребёнком и выходил во двор погулять, я слышал все эти слова в большом количестве. Слова незнакомые — дома таких не говорили. И что-то мне подсказывало, что слова нехорошие. Поэтому спросить у тех же родителей, что они означают, я как-то не решался.
Так что я просто дожидался, пока папа и мама окажутся вместе в комнате, становился посредине и выдавал весь словарный запас мата, который почерпнул на прогулке. У родителей хватало ума не реагировать, не обращать на мои спичи никакого внимания. И я, видя это, терял к новым словам интерес и в свой речевой обиход не вводил. Во всяком случае, лет до семи-восьми.
Знакомство
Видимо, нужно сказать, как вообще я оказался на Донбассе. Не после ВУЗа, с этим ясно, а в детстве.
Всё очень просто. Мама окончила мединститут в городе Сталино в 50-м году. В Сталино – потому что там жили родственники, и с ними она вернулась туда из эвакуации. А родителей у мамы к тому времени уже не было. Её отец погиб на старом Днепропетровском мосту при отступлении, мать умерла в сорок втором.
Распределили её в Антрацит, в медсанчасть шахты 8/9 (восемь-девять). Через год поехала в отпуск в Москву – по театрам походить и родственников повидать – и познакомилась там с папой. Который вернулся из Германии только в ноябре 1946-го — поэтому ещё учился. Во втором медицинском.
Мама вспоминала: «Идём с ним по улице, он мне что-то рассказывает, а я киваю, киваю и не понимаю – ни слова».
Папа разговаривал очень быстро и не очень разборчиво.
Не откладывая в долгий ящик, поженились. Точнее, расписались. А потом, когда уже родился я, мама просто не ужилась с папиными родителями и сестрой. Что не мудрено. Жили в какой-то половинке хибары, в Перовом поле: мои бабушка и дедушка (добрейший человек, но к тому времени уже с болезнью Альцгеймера), папина сестра с мужем, папа, мама и я.
И мама не выдержала. Сказала отцу: «Мы с Аликом вернёмся в Антрацит, а ты доучишься и, если захочешь – приедешь. Ну, а нет – так нет». Мама была человеком жёстким.
Единственное, о чём она попросила – о кровати. Чтобы на первых порах было бы ей и мне, четырёхмесячному, на чём спать. Папа сложил их койку, связал и сдал её в багажный вагон. И спал полгода на полу.
А на шахте Центрально-Боковской – горздрав отправил маму заведовать тамошним терапевтическим отделением, состоящим из неё самой — она сняла комнату с мебелью, и кровать эта так и простояла до папиного приезда разобранной. Папа вспоминал маме эту кровать до конца своих дней…
Штанишки
Писал это и понимал, что в мозгах застряло слово «эвакуация». И, видимо, будет сидеть там, пока я не расскажу о ней то, что знаю.
Моя прабабушка была очень добрым человеком. Это говорили все. Она дожила до восьмидесяти семи лет. И умерла, как праведница. Жила с дочерью Женей в Сталино. Возилась по хозяйству до последнего, потом сказала: «Я немного полежу. Устала». Полежала с неделю и умерла.
А пережила много чего. Погромы, первую мировую, революцию, гражданскую, смерть мужа, двух дочерей и двоих сыновей.
Один из них, Наум, работал в серьёзном московском НИИ. Был хорошим математиком. Задачи часто решал во сне. Приходил с работы в задумчивости, ложился, а утром вставал с готовым решением.
Его жена Мария летом 39-го родила сына. Владимира Наумовича Окуня, русского. Мария была русской. И маме Наума (моей прабабушке) очень это не нравилось.
Когда началась Великая отечественная, муж одной из прабабушкиных дочерей, работавший в Горловке главным инженером не помню чего, смог отправить с Донбасса всю женскую часть семьи. Прабабушку, жену Дасю с двумя детьми, её сестёр Женю и Броню из Сталино, и даже сестру Фаню (мою бабушку) с дочкой (моей мамой) из Днепропетровска.
Все они в результате оказались в Фергане. И Наум, продолжавший работу в своём серьёзном НИИ, сказал жене: «Езжай к ним. Примут, никуда не денутся. Всё равно ехать больше не к кому». И Мария с двухлетним сыном поехала. И добралась.
Навстречу им вышла моя прабабушка. Сдёрнула с внука штанишки, посмотрела и сказала: «Идите, мы вас не знаем».
Голодали Мария с Володей первое время страшно. И единственная, кто носила им всё, что могла добыть и не съесть, была моя семнадцатилетняя мама, уже работавшая электриком.
После войны они вернулись в Москву. И во время борьбы с безродными космополитами Наум пришёл с работы ещё более задумчивым, чем обычно. Лёг спать и не проснулся. Как оказалось, в НИИ было общее собрание, где его обвиняли во всех грехах.
В 60-м Мария получила однокомнатную квартиру в Малаховке. Из родственников общались они только с нами. А со мной Володя дружил до самой своей смерти. Я был последним, кто говорил с ним. По телефону. Уже из Германии.
Ни Мария, ни он так, по-моему, и не простили. А я не то, чтобы не могу простить своей прабабушке этих сдёрнутых с ребёнка штанишек – в конце концов, кто я такой, чтобы прощать ей или не прощать, — но понять — не могу. По сей день не могу понять.
Вовка Окунь
Несмотря ни на что ребёнок этот, слава богу, вырос.
А когда родился я, он автоматически стал моим двоюродным дядькой. Мама звала его Вовка Окунь. Я тоже.
Он был знатоком западной живописи, джазовой и классической музыки. Знатоком Москвы. И не знатоком-любителем, а знатоком. Половину того, что знаю о Москве и её окрестностях я, я знаю от него. Даже, что такое стремянка и почему она так называется, объяснил мне он, рассказывая о шатровой церкви Вознесения ХVI века в Коломенском. Оказалось, на шатры взбирались по цепочке из больших кованых стремян — стремянке.
В начале восьмидесятых я бывал в Москве довольно часто и обязательно день-два отдавал Вовке Окуню. То есть, конечно, он отдавал их мне. Иногда это были не дни, а ночи. Мы шлялись по ночному городу, и он без умолку говорил. Мог остановиться у любого старого дома и рассказывать о нём, о тех, кто в нём жил и бывал.
Но особое удовольствие мне доставляло ходить с ним в Третьякову, Пушкинский музей или на какие-нибудь выставки. Это всегда был целый спектакль. Как только он начинал меня просвещать, вокруг собиралась толпа. Экскурсанты оставляли своих экскурсоводов и скапливались вокруг нас.
Не потому, что экскурсоводы были плохие, нет. Просто ни у одного экскурсовода на работе никогда не было и никогда не будет такого драйва, такого количества эмоций. Замечал всеобщее к себе внимание Володя не сразу. А заметив, говорил «идём отсюда», и мы уходили в другой зал.
Но однажды уйти не удалось. Если я ничего не путаю, это было на выставке немецких экспрессионистов. Кажется, первой в СССР. Откуда он в те годы столько знал о группе «Мост», о «дегенеративном искусстве», о судьбах его носителей – понять невозможно.
Народ, как обычно, окружил нас и заслушался. И слушал до тех пор, пока один экскурсовод не пробился сквозь толпу и не похлопал Вовку по спине: «Гражданин, вы мешаете мне работать», — сказал экскурсовод. Вовка умолк. Стал затравленно озираться. Понял, что окружён. И тут над толпой прогромыхало:
— Пусть. Говорит.
Слова принадлежали мужику двухметрового роста, грандиозному и обширному. А тон его не допускал никаких возражений.
И Вовка снова заговорил. И повёл за собой всю эту толпу. И экскурсовод ходил вместе с нами и слушал его с открытым ртом. Хотя явно был чем-то недоволен.
Да, занимался мой дядька разработкой телеметрии для космических кораблей. Всегда прямо говорил дуракам, что они дураки, бездельникам – что они бездельники, ворам – что они воры.
За это был нелюбим начальством и большей частью коллектива, и когда с перестройкой всё стало валиться, одним из первых наплевал на космос и ушёл торговать в электричках. Сначала газетами. Потом – чтобы легче было таскать — всякими мелочами. Клеем, пятновыводителем, топографическими картами.
В электричке и умер.
#
- Александр Хургин. Деды воевали - 10 ноября 2022
- Александр Хургин. Ожидание войны - 3 мая 2021
- Мемуарные байки: продолжение, которое всё ещё следует - 27 октября 2020
Верхний снимок: на этой шахте я работал. (https://miningwiki.ru/wiki/Файл:Шахта_Запорожская.jpg)
Продолжение следует…
Schwingen.net публикует восемь рассказов Александра Хургина из цикла «Мемуарные байки».












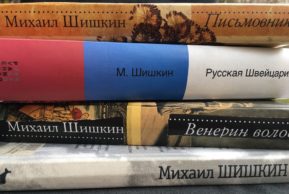
Поделитесь публикацией с друзьями