Екатерина Марголис. «Тюрьма открывается снаружи, но свобода — изнутри»
Карабаново, 90 год. За моей спиной котлован дома Анатолия Марченко, который он начал строить для своей семьи и который был разрушен бульдозерами КГБ после его очередного ареста.
На фотографии мне 17. Когда его убили, мне было 13.
Я помню этот день. 9 декабря 1986-го как вчера. Мы близко дружили с его сыном. Нам было по 13 лет. Ромео и Джульетта времен перемен.
Этот день был поворотным в моей жизни. Сама еще почти ребенок, я записала тогда в своем дневнике «Умер великий человек. Теперь нельзя бояться. Теперь можно только бороться». Я всерьез думала дорасти до борьбы с советской властью. Мы готовились в декабристы. Но наступила перестройка, и на мою юность выпали иные ветра. И совсем другие вызовы времени.
Прошло 37 лет. И вчерашний день — убийство Алексея Навального — это завершение огромного жизненного цикла и одновременно всего лишь очередного исторического витка.
Убийств и канонизаций без выученных уроков.
Сегодня я попробую объяснить. Нет, не российским друзьям из моего прежнего интеллигентско-правозащитного-творческого круга. Их у меня после двух лет вторжения в Украину и последовательной самозащитной апологетики «хороших.ру» в общем-то больше не осталось.
Я враг. Ведь я не играю в игру «война Путина» и «мы все жертвы режима», а твержу о вине и ответственности россиян, вне зависимости от места их проживания, за каждую ракету по Украине, о необходимости развала империи — в головах прежде всего, пересмотра самих основ культурной ментальности и виктимно-агрессивных установок, в которых укоренено нынешнее убийство и нынешний геноцид.
Но сегодня я попробую объяснить своим внероссийским друзьям и читателям, почему вчерашний день — это перелом не только для тех, кто страстно верует в прекрасную Россию будущего, но и для тех, кто мечтает о рве с крокодилами.
Почему это очередное убийство, новое на фоне ежедневных убийств украинцев, имеет прямое отношение и к Украине, и к исходу войны, и к будущему.
Почему это очередное убийство, новое на фоне ежедневных убийств украинцев, имеет прямое отношение и к Украине, и к исходу войны, и к будущему.
Лучше меня об этом написал Ян Валетов вот тут.
Но я тоже попробую.
Всю ночь над Венецией клубился туман. Он расползался по улочкам, заползал в комнаты, в память, в обрывки сновидений.
Еще не открыв даже век и ставней, я снова узнаю его по голосу. По далекой перекличке протяжных гудков вапоретто, когда город, словно оркестр настраивает струнные и духовые своих пароходов, паромов, мото-скафо. И вправду — за окном густая пелена. Будущего не видно. Прошлое надежно укутано им же.
Укрыться бы, поспать.
Но я хочу видеть. И хочу помнить.

1984. Год Оруэлла. Мне 11. Я читаю тайком добытую родителями «Русскую мысль» и слушаю по ночам радио. Я помню первые стихи — Бродского и Стуса. Как учила наизусть еще совсем девочкой по слепым машинописным копиям самиздата строки «Сретение» («…светильник светил и тропа расширялась» — это как раз вчера — 16 февраля) и стихи на незнакомом и не до конца понятном мне, и казавшимся от этого еще более дивно красивом украинском языке.
«Ці виски, ці скрики під вітром злітають угору.
Все вгору і вгору — над небо, над вечір, над ніч.
Лікуй висотою цю душу, ласкаву і хору,
в смертельнім ширянні тримайся і ранку не клич.»
Василь Стус погиб при до сих пор не выясненных обстоятельствах в лагере для политзаключённых Пермь-36 4 сентября 1985 года. На этой же зоне Пермь-36 сидели многие советские диссиденты — Сергей Ковалев, Михаил Мейлах, Анатолий Марченко — и многие другие. В том числе так называемые «националисты» — борцы за свободу и самоопределение Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, крымские татары…
Стус был за решеткой на этой самой зоне, когда его кандидатура была выдвинута Генрихом Бёлем на Нобелевскую премию. За несколько месяцев до заседания Нобелевского комитета Василь Стус погибает в штрафном изоляторе.
Как известно (и было это хорошо известно и властям в том числе), Нобелевский комитет рассматривает кандидатуры только ныне живущих авторов.
Потом уже в перестройку была долгая история с эксгумацией, с попыткой расследования, с новым участием бывших гэбэшников (а бывших, как мы знаем, не бывает) с тем, чтоб этому расследованию помешать. Вплоть до детективных ночных ралли по пермским дорогам. Правды так мы и не знаем. Точнее, конечно, знаем. Его убили.
Я была на этой зоне. Я хотела увидеть своими глазами. Хотела вложить персты не от неверия, а из благодарности. Мы поехали уже из Италии. Тем давним летом 2010-го я везла в Пермь-36 и свою 15-летнюю выросшую в Венеции дочь, именно потому, что бывают вещи, которые можно почувствовать только кожей.
Я помню каждый кадр той поездки.
Как рассказать щекотание трав и стрекот кузнечиков, изгиб реки Чусовой, разлив лета, мотки колючей проволоки и странные фигуры с телогрейках — пациенты соседнего интерната, бродящие среди этого вольного простора, словно призраки-напоминания о страшной зоне — вот тут в двух шагах. Как рассказать лязг замков, узкую аллею полузапретных деревьев и привилегированные сортиры-очко для заключенных VIP (деревья насажены для знатных НКВД-заключенных).
Из зоны Пермь-36 за полвека с момента ее основания до закрытия в 87-м не удалось убежать ни одному человеку. Склон, ведущий к реке, оказался идеальной топографией. Попыток было немало. Катапультировались, закапывались в бревна, вывозимые с зоны, закатывались в покрышки грузовиков. На выходе из зоны — маленьком пространстве пропускного пункта-вахты — машины выключали мотор и специально разработанное устройство должно было улавливать сердцебиение — водителя машины — и посторонние, чтобы вычислять возможных беглецов.
Всеми этими высокотехнологическими разработками занимался специальный кегебешный научно-исследовательский институт в Москве (я еще долго потом пыталась мысленно представить психологический портрет среднестатистического работника такого института, а теперь думаю, что он сродни этим «милым» ребятам-айтишникам, занимающимся разработками и наводками ракетных ударов по Украине из расследования Христо Грозева).
Территории обоих участков лагеря по периметру были окружены охранными и сигнально-предупредительными системами. Они состояли к концу 1980-х из дощатых заборов, систем из колючей проволоки и колец «путанки» — тончайшей проволоки МЗП (малозаметное препятствие), систем сигнализации, реагирующей на шаги, резонанс и бог-знает-что-еще общей глубиной в 30 и более метров.

Когда лагерь закрывали в 88-м, представители вышеозначенного института примчались на место и все охранные и сигнально-предупредительные системы на этом участке были демонтированы и уничтожены — еще бы! государственная тайна! — глядишь, еще понадобится: ведь уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае.
Я забыла имя нашего тогдашнего экскурсовода. Высокий, седой, интеллигентный, он, оказывается, всю жизнь прожил тут, бок о бок с зоной («Вон с крыши того магазина мы глядели, как заключенных строили…»), а когда на месте «политической зоны» сделали музей репрессий, пришел работать — кто лучше его расскажет, как это было страшно и повседневно: банальность зла изо дня в день.
«Верни до мене, пам’яте моя!
Нехай на серце ляже ваготою
моя земля з рахманною журбою,
хай сходить співом горло солов’я
в гаю нічному. Пам’яте, верни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука осіннього достою
в мої червонобокі виснуть сни.
Нехай Дніпро уроча течія
бодай у сні, у маячні струмує.
І я гукну. І край мене почує.
Верни до мене, пам’яте моя»
Именно так реальным присутствием в реальном пространстве все книги и рассказы, все лекции и предания обретают навсегда осязаемую зримость, когда ты присядешь и замрешь на краю железной скамьи, залитой решетчатым светом — последнего адреса великого поэта Василя Стуса.
Когда ты стоишь над промерзшей могилой Анатолия Марченко возле чистопольской тюрьмы.
Я долго верила в будущее России. Я не хотела уезжать в 90-е. Даже на учебу. Я ходила на митинги, разбирала первые мемориальные архивы и мешки писем гастарбайтеров и бывших заключенных, мы ксерили по ночам диссидентские дела, которые Сеня Рогинский умудрился вынести на сутки из архива Лубянки (сейчас кажется фантастикой, тогда было реальностью), мы учились и хотели поменять что-то на этом переломном моменте истории. Я никогда не стремилась к эмиграции, моя судьба сложилась так совсем по другим обстоятельствам — отнюдь не политическим. Хотя если додумать политическим тоже — просто тогда я этого не понимала.
Сегодня я не верю в Прекрасную Россию — ни прошлого, ни тем более будущего. Без распада этой империи зла я не верю ни в какое будущее.
Сегодня я не верю в Прекрасную Россию — ни прошлого, ни тем более будущего. Без распада этой империи зла, я не верю ни в какое будущее.
Как похоронят Алексея Навального? За полярным кругом?
Помните, стоило на огромной наваленной (sic!) посреди московских или питерских дворов кучи снега, не убранной нерадивыми коммунальными службами, написать краской Навальный — как службы немедленно приезжали и срочно вывозили снег. Как же они его боялись. И боятся. Как главный трус не может годами вымолвить его имени. Этот гражданин. Этот господин. И сегодня, говорят, российская пресса пестрит новостью о смерти без имени.
А я ведь помню и Чистополь, и сиротское тюремное кладбище. Помню декабрь 1990-го, ледяной разлив Камы. Помню непожатую Ларисой Иосифовной Богораз руку тюремного начальничка. За стенами именно этой тюрьме в декабре 86-го погиб ее муж, правозащитник Анатолий Марченко, державший голодовку за свободу политзаключенных. Помню, как незадолго до его гибели ей звонили «оттуда» — предлагали эмиграцию вместе с мужем, который к тому времени уже сидел много лет, и с которым ей давно не давали свиданий. Она отказалась: только после разговора с ним, против его воли — никакой эмиграции. 9 декабря 1986-го мы узнали, что он погиб в тюрьме во время голодовки за освобождение политзаключенных.

В 13 лет все воспринимаешь с пронзительной незаживающей остротой. Я помню свои страшные клятвы самой себе, помню, как бродила в тот день под окнами нашей замечательной преподавательницы латыни с подарком — я давно придумала комнатное растение, увешанное латинскими пословицами и крылатыми выражениями: сколько я вырезала, придумывала, писала мелким почерком, готовила… и каким глупым, никчемным мне это казался теперь. Я думала и не ходить вовсе, и не поздравлять ее с днем рождения вовсе, но мама убедила, что я не права и не пойти нельзя.
Юдифь Матвеевна открыла дверь своим обычным неторопливым царственным жестом. Она молча приняла подарок и мои блеющие поздравления, помолчала, посмотрела на меня и внятно произнесла: «Катя, ты ЧТО, не знаешь, ЧТО СЕГОДНЯ ПРОИЗОШЛО…»
Я готова была провалиться сквозь бетонные плиты многоэтажки на Юго-Западной.
Прошла буквально неделя, и Горбачев позвонил Сахарову в Горький и предложил вернуться из ссылки в Москву. Стали отпускать диссидентов и началась перестройка.
Мне казалось, что мне довелось слышать немало рассказов очевидцев и что я прочла немало лагерной литературы и свидетельств от 30-х до 80-х, но сегодня в стране, во главе которой по-прежнему стоит агентишко КГБ, это не станет содержанием школьных учебников — а только снова частью судьбы.
А потом на следующем витке — частью иконостаса.
Иконостатическая культура на то и иконо-статическая, что не позволяет делать выводов и извлекать уроков.
Иконостатическая культура на то и иконо-статическая, что не позволяет делать выводов и извлекать уроков.
И мы снова свидетели убийств в прямом эфире. И в том числе завершения судьбы, которую выбрал себе сознательно человек, чье имя сейчас на всех первых полосах мировых новостей. Судьбы, которую нельзя разделить, но и оставаться в стороне от которой тоже невозможно. Человек, который верил в тех, кому наплевать на человека вообще, который знал такие старомодные слова, как «честь» и «отвага», и сопрягал их с поступками своей единственной жизни, и при этом обладал прекрасным чувством юмора и ироничным отношением к себе и к своей страшной Одиссее.
Отдельно никогда не прощу попу Гапону Венедиктову с его лживым «Эхом» поставку с «Крымнебутерброд».
Перед грузинами за грызунов Навальный хотя бы извинился. Перед Украиной, к сожалению, не до конца… Вчера мне продолжали присылать скриншоты того, что я и сама знаю не хуже вас. И об имперстве писала ему в открытом письме — в ответ на его важнейший текст о пересмотре [позиции] этим летом. Вряд ли он его получил, но мне было важно это сказать. Текст письма тут.
Его пытались отравить — страшным образом (я никогда не забуду эти нечеловеческие крики в самолете), пытался убить Пу — серое стареющее убожество не выносит красивых сильных соперников. Он не только выжил, но и вернулся, чтобы бросить вызов вторично.
Он в тюрьме, на зоне, в карцере. И убивали его точно так же и точно те же, кто убивали Стуса или Марченко. Он герой вне зависимости от своих взглядов на «Прекрасную Россию Будущего» — и в отличие от большинства, он заплатил за них полную цену.
Мне не был близок его стиль и политический язык, я никогда не стала бы за него голосовать: у меня опять-таки очень хорошая память — и реакцию на аннексию что Грузии, что Крыма я дословно прекрасно помню.
Но меня всегда восхищали его желание и способность учиться — тем более в таких условиях. Он не застывал в позе героя-мученика, а учился и двигался буквально на каждом шагу и шаг за шагом.
От признания важности феминитивов (казалось бы, мелочь, но на фоне российского мачизма, и особенно будучи уже в тюрьме, и в условиях рабского труда — огромный внутренний шаг к пониманию самой природы дискриминации и ее исправления и пересмотра собственных взглядов — до недавних 15 пунктов, в которых он ясно сформулировал:
«3. Убиты десятки тысяч невиновных украинцев, боль и страдания обрушены на миллионы. Совершены военные преступления. Разрушены города и инфраструктура Украины.»
«5. Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать.»
Помимо мужества, способность пересматривать свои прежние установки, смотреть на себя иронично и критически, сильно отличает его от большинства соплеменников — и «оппозиционных» в том числе.
Он умел извиняться. И признавать ошибки. Уникальное качество просто для россиянина — не говоря уж о политике в стране, где правит пахан и действуют блатные понятия зоны.
Где принятые в нынешней РФ фальшивые выбиваемые на камеру извинения — часть того же лагерного менталитета, блатной психологии «не верь, не бойся, не проси», системы в которой есть только право сильного, а любые извинения — воспринимаются как унижение, «опускание» и признак слабины.
Именно поэтому даже оппозиционные антивоенные и либеральные россияне (про вату и Z и говорить не стоит), вышедшие с той же зоны, но вывезшие ее с собой, в эмиграции в свободном мире так панически боятся пересмотра собственных догматических установок, да и просто боятся взглянуть в зеркало. Боятся обрушения своего иконостаса. И виктимного эпоса. А тот, кто это зеркало предлагает, становится главной опасностью и злейшим врагом — хуже Пу.
Это путь в никуда. И все жертвы были и будут напрасны. Очередная невозвратная жизнь. Очередная звездочка на фюзеляж — «мы жертвы режима».
Не пора ли хотя бы сейчас отринуть спесь, отряхнуть догмы, перестать, любуясь собой, писать про скорбь, а не про ярость, и понять, что горка цветов у Соловецкого камня, конечно, трогательное человеческое свидетельство ростков подлинной жизни, пробивающейся и через защищенный гранит, но исторически это лишь новое свидетельство бессилия, цикличности жертв и того, что всякая жертва будет напрасной. Которую проглотят и не заметят. А потом канонизируют и сделают культ. Но критического мышления и саморефлексии от этого не прибавится.
Ни ленточками, ни фонариками, ни цветочками диктатуры не свергаются.
Ни ленточками, ни фонариками, ни цветочками диктатуры не свергаются.
И нет, я никого ни к чему не призываю. Я не вернусь. Я выбираю жизнь в свободном мире и за свободу его буду бороться. И буду поддерживать тех, кто защищает эту свободу и ценности от российского зла. Украину и ее вооруженные силы.
Я не верю ни в какую прекрасную Россию, я не верю в россиян, я не готова тратить на эту страну свою единственную жизнь. Я верю только в конец империи и долгую работу с ее наследием и травмами в отдельных странах.
Я верю в человека.
И я не замолчу.
Как человек русских культурных корней, я буду продолжать призывать к пересмотру и покаянию.
Хватит этого культа страданий и виктимности.
Перед нами пример Украины и украинцев.
Действия, стойкости, сопротивления.
Достоинство — такое частое слово в украинском контексте — и почти полностью отсутствующее в современном словаре русского общественного языка.
Достоинство — такое частое слово в украинском контексте — и почти полностью отсутствующее в современном словаре русского общественного языка.
Увы, в закостеневшей с диссидентских времен и не подвергнутой ни малейшему пересмотру картине мира, садиться в тюрьму и отдавать свои единственные жизни в руки нелюдей — почетнее, чем брать в свои руки оружие и сражаться с этими нелюдями.
Или хотя помогать тем, кто это делает, — донатом?
В среде оппозиции и культура.ру, у которых «Россия оккупирована путинской бандой», поддержку и моральный статус политзаключенных нельзя даже близко сравнить с поддержкой (точнее, в основном неподдержкой) соотечественников-добровольцев, которые выбрали не тюрьму, а битву, сражающихся за Украину на стороне света и правды. Против того самого режима, который вы так ненавидите.
Увы, культ тюрем, узников и страдальцев по-прежнему намного более укоренен и освящен всей русской культурой, а культ борьбы и активного сопротивления был дискредитирован большевиками и всей мутью советской риторики, прикрывавшей всё те же репрессии и окончательно оформивший из мертвого дома архипелаг ГУЛАГ. Всюду. По обе стороны колючей проволоки. В душах. В головах. В языке.
Жизнь по понятиям. И окончательное слияние блатарей с надзирателями и кегебешной шушерой во главе, дележ места у хлеборезки и самосознание интеллигенции как жертвы.
Общество травматиков: разрозненность, подозрительность, тотальный дефицит эмпатии и подростково-инфантильный негативизм «если Евтушенко против колхозов, то я за». Неспособность иконостатической культуры к рефлексии о самой себе. Репрессивное сознание. Восприятие любой критики как нападения, а извинений как унижения.
И уже постсоветское: закомплексованный снобизм, заборы, железные двери и «не трогайте меня», небрежное всезнайство, лакейская гордыня, «из грязи — в князи» на месте достоинства. И тюрьма как центральный концепт, незримо присутствующий всюду. В эстетике, в речи, в сознании.
Это и есть несвобода. Это и есть всё тот же лагерный менталитет.
Инициация через тюрьму у блатных.
Канонизация через тюрьму у интеллигенции.
Но понятия героя и жертвы — антонимы.
Герой — не жертва. Герой отказывается быть жертвой и ощущать себя жертвой любых обстоятельств.
Герой — это человек, который дорастает до замысла о себе.
Это и есть человеческое призвание.
Идти своим путем.
Вне пут и Путина.
Без страха и оглядки на них.
Стать собой.
Без иноагентов, плашек, бесконечного цитирования и стеба над идиотизмом власти, самолюбования на ее черном фоне и одновременного следования всем правилам ее игры. Без тиражирования вредных нарративов и вклада в новые мутации зла, вместо его искоренения.
Только помощь ВСУ и помощь Украине.
Пора понять, что только этот выбор — реальный вклад в будущее.
Когда события настолько похожи на библейскую притчу, то велик соблазн отстраниться, перенастроить зрение sub specie aeternitatis и в этой несправедливости найти высший смысл. Восславить героизм жертвы и жить дальше.
Этого нельзя допустить.
Никакие масштабные поступки других не идут в зачет и не избавляют от личной ответственности.
Россия не будет свободной.
Россия не будет свободной никогда, пока она будет.
Пока она будет единой.
Пока эта страна скроена по принципу тюрьмы и ею взращена. Пока ее возглавляет жалкий кагэбэшник-шестерка.
Ее внутренняя несвобода — не личное дело тех , кто «за поребриком», а смертельная опасность для всех, кто живет по другим принципам. Мы видим это ежедневно. И конца этой страшной войне и этим убийствам не видно. Зато есть ненулевые шансы ее прихода в Европу и в дом каждого.
России нужно стать свободной от самой себя.
А для этого она должна прекратить свое существование.
В качестве тюрьмы/империи.
Отринуть сам концепт тюрьмы как экзистенциальное базовое понятие. Как меру вещей. Как орден за инакомыслие. Как что-то высшее и страшное, от чего не зарекаются и никто не застрахован, но что одновременно является единственной валидацией идей и принципов, и самого человека («приезжайте и садитесь в тюрьму, а не вещайте из безопасного далека» — сколько раз я это слышала от вроде бы неглупых и антивоенно антипутински настроенных россиян).
Мир огромен. В нем есть выбор и пространство для выбора.
Пора выйти из ментальной тюрьмы и культурных матриц и перестать воспевать тюремную сагу как высшее достижение своих героев.
Это не достижение, а поражение.
Даже если это призвание.
И от этого очень горько.
Тюрьма открывается снаружи, но свобода — изнутри.
Тюрьма открывается снаружи, но свобода — изнутри.
Я иду по венецианским улицам. Город спросонья с трудом протирает туман, но морок не проходит. Я хочу видеть, но Фокус теряется. Очертания расплывчаты. На задах театра Ля Фениче разгружают с лодок декорации новых жизней и грузят прежние. Мой пес бежит привычной дорогой, на ходу читая стены своего собачьего фейсбука и оставляя краткие комментарии.
В кадре арки проявляется прохожий. На миг он становится единственным человеком в фокусе моего зрения, потом исчезает за поворотом, но гулкие шаги его еще долго слышны.
Потом теряются и они…
- Маска, я тебя знаю. Екатерина Марголис – об операциях прикрытия - 15 апреля 2024
- Екатерина Марголис. «Тюрьма открывается снаружи, но свобода — изнутри» - 18 февраля 2024
- Уменьшительное зло. Екатерина Марголис — о сентиментальности - 7 ноября 2023
Изображения:
«Всю ночь над Венецией клубился туман. Он расползался по улочкам, заползал в комнаты, в память, в обрывки сновидений». 17 февраля 2024 г. (© Екатерина Марголис)
Екатерина Марголис, Карабаново, Владимирская область, 1990 г. (© Из личного архива Екатерины Марголис)
Василь Стус. 1977 г. (1938 — 1985) – украинский поэт, переводчик, литературовед, правозащитник, диссидент и политзаключенный. (© Лантушка. Портрет Василия Стуса на постоянной экспозиции в музее Бойко в Долине. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Анатолий Марченко (1938 — 1986) — советский писатель, правозащитник, диссидент и политзаключённый. (© Сахаровский центр)










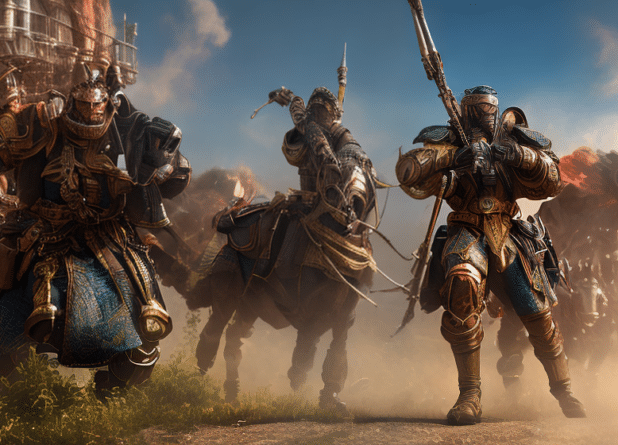


Поделитесь публикацией с друзьями