Мемуарные байки: Центрально-Боковское детство (продолжение)
Schwingen.net публикует восемь рассказов Александра Хургина из цикла «Мемуарные байки».
Семь сорок
Итак, из Москвы мы уехали. И когда уезжали, произошёл смешной, как казалось маме, случай. И она любила его потом вспоминать.
В молодости мама совершенно не была похожа на еврейку. И вот мы – мама и четырёхмесячный я – сели в поезд Москва-Дебальцево. Отец — в отличие от мамы типичный семит — нас провожал. Когда поезд тронулся, и в купе завязался какой-то разговор, попутчик спросил у мамы:
— Что вас заставило выйти замуж за еврея? (напомню, это самое начало 53-го года, Сталин ещё жив, и дело врачей уже раскручивается).
— Ничего не заставило, — ответила мама. — Я тоже еврейка.
Попутчик страшно удивился:
— Зачем же вы, — сказал, — на себя клевещете?
Внешность у мамы долго ещё была обманчивой. Что и мне передалось по наследству. Как-то — всё на той же шахте Центрально-Боковской она вышла со мной погулять. Я был в том возрасте, когда сидят у мам на руках. И я сидел. Тут появилась цыганка. И стала говорить с мамой на непонятном ей языке. Мама беседу не поддержала. Цыганка удивилась. И опять заговорила.
— Что? — сказала мама. — Я не понимаю.
Тогда цыганка обиделась и сказала:
— Не гордись, красивая, что врачом стала (все в Антраците и окрестностях всё друг о друге знали), и не скрывай. Сынок-то всё равно цыганчонок.

А чуть позже, когда я уже ходил в детский сад, перед новогодним маскарадом я пришел домой и сказал:
— Мама, меня назначили грузином.
На что мама со смехом ответила:
— Ничего, я тебя всё равно люблю.
Сорок семь
Действительно, мама очень меня любила — меня же в самом начале жизни чуть не удавили. Не специально, но для матери специально или нет – значения не имеет.
В роддоме Боткинской больницы она заболела маститом, и её там срочно прооперировали. А меня, когда пришло моё время, из роддома выписали, выдав на руки папе, чтоб он делал со мной что хочет. И он — тогда студент последнего курса мединститута — в вестибюле стал заворачивать меня для тепла в дополнительное одеяло, чтобы я не замёрз и не простудился во время своего первого выезда в свет. На улице стоял ноябрь и не самый тёплый ноябрь, а ехать предстояло далеко. И тут к папе подошла какая-то сердобольная медсестра:
— Давайте, я вам помогу, — говорит.
Папа говорит ей:
— Не надо, я умею, поскольку сам медик.
А она:
— Медик, но мужчина. А детей пеленать – занятие женское.
И она помогла папе, и он повёз меня домой. А когда привёз и распеленал, я был весь в холодной испарине и уже хрипел. Слишком туго меня медсестричка запеленала. Не рассчитала усилий и рвения.
Папа очень тогда испугался и всё повторял:
— Я везу его, а он кричит и кричит. Я его чуть покачаю, пошлёпаю — он замолчит, потом опять кричать начинает. А потом замолчал совсем. Я ещё подумал «чего это он замолчал?» А он задохнулся.
Но я не задохнулся. Вернее, задохнулся не совсем. Живучим оказался. Притом, что родился не бог весть каким здоровяком и гигантом. Сорок семь сантиметров росту во мне было и два шестьсот весу. А выписали меня вообще двухсполовинойкилограммовым. Похудел я у них в роддоме, на казённых харчах и в связи с маминым заболеванием, нарушившим мой режим грудного питания. Но сейчас вес у меня более или менее нормальный. Хотя с ростом не всё в порядке и по сей день.
Да, и вот с таким, сомнительного здоровья ребёнком, сама недавно после операции, мама из Москвы потащилась туда, откуда уже уезжала навсегда — в глушь и степь, в Донецкий угольный бассейн. И мы стали там жить.
Трамвайчик
Там же, года в три, я впервые увидел трамвай, вернее, трамвайчик. В городе Сталино. Был когда-то такой город, ставший потом Донецком.
Приехали мы из Антрацита в гости к тёте Жене. И почти возле самого дома (Красноармейская, 80) я его увидел. Он был красный, звонкий и прозрачный. Но быстро свернул куда-то за угол, скрежетнул и пропал в неизвестности. Я его даже рассмотреть как следует не успел.
Назавтра тётя Женя с мужем ушли на работу, родители — по каким-то своим делам, а меня оставили с прабабушкой. У которой на попечении были ещё куры. И она с ними возилась в сарае.
А меня из виду упустила…
Когда родители вернулись, прабабушка была уже в предынфарктном состоянии. Она обегала все окрестные дворы и улицы. Безрезультатно.
Мама тут же начала тихо сходить с ума. Папа тоже не знал, что делать. Куда бежать? Куда звонить? В общем, ужас.
Но, слава богу, открылась калитка и в неё вошла соседка – Зина Гребельская. За руку она вела меня.
— Где ты его нашла? – спросила прабабушка.
— Да я его не искала, — сказала Зина. – На Седьмой линии (кажется) встретила, ну и привела.
Меня даже не ругали. Так были рады встрече. Спросили только, куда это я ходил?
— Трамвайчики смотреть, — ответил я.
— Так они же здесь, за углом, — сказала мама.
— А я долго шёл, пока их увидел, — сказал я. – Очень долго.
Как выяснилось, я просто пошёл не в ту сторону.
Так с тех пор и иду.
Воспитание
А ездить к тёте Жене и дяде Илюше в Сталино я, с одной стороны, любил, с другой – ненавидел.
Любил потому, что там всегда были конфеты. Целая хрустальная ваза шоколадных конфет типа «Кара-Кум», «Белочка», «Мишка косолапый». Дядя Илюша работал замдиректора какого-то завода и бывал в Москве. Так что откуда конфеты, было понятно. Непонятно было, почему их не съедали сразу же, как только привозили. И почему они стоят на виду, и никто на них не претендует.
А ненавидел — потому что у них нужно было ку-у-ушать.
Дядя Илюша был сыном купца первой гильдии, имевшего право жить не просто за чертой оседлости, но в самой Москве. Золотая молодёжь. Дружил с Игорем Ильинским. Семнадцатилетним пацаном ушёл в революцию. На что отец сказал: «Погоди, ты ещё пожалеешь».
Пожалел дядя Илюша в 37-м, получив свои десять лет и отсидев их в Воркуте. Но воспитание осталось.
Поэтому «ку-у-ушать» — это был ритуал, акт, священнодействие. Обед состоял из закуски, супа, второго блюда и десерта. И на всё, слышите, на всё был свой прибор. Своя тарелка, своя ложка, своя вилка и свой нож. Для меня – ребёнка – никаких послаблений не делали.
Единственное, чего мне не подавали, это рюмку водки, которую дядя Илюша выпивал в начале обеда обязательно. Сидел я почему-то всегда напротив него. И он, черпая суп, всегда смотрел мне в глаза и всегда исподлобья. Я и без того понятия не и мел, что, чем и как нужно есть, а под этим взглядом вообще скукоживался и канючил, что есть не хочу, поскольку не голоден.
— Опять конфет объелся, — говорил дядя Илюша и взгляд от меня отводил.
Потом, когда он вставал из-за стола (мне позволялось встать только после него) и уходил в спальню отдохнуть, мама с молчаливого согласия тёти Жени меня докармливала – пожрать-то я любил с детства. Причём без всяких хитростей, с вилкой в правой руке и котлетой в левой. Делалось это не в комнате, а в кухоньке, перестроенной из прихожей, где стола не было, зато была ванна, накрытая дощатым щитом.
Почему там?
Потому что комната с кровати, на которой отдыхал дядя Илюша, просматривалась…
Веселящий напиток
И кстати, о рюмке водки. Алкогольный опыт у меня богатейший. Потому что пить я начал в четыре года.
Родители что-то праздновали (скорее всего, свой общий день рождения), у детей был отдельный столик, и один из гостей вместо компота налил нам в чашки шампанского. Пошутил так, мило. И мы — детвора от трёх до пяти – его пили. Пока моя мама не обнаружила подмену, не обругала шутника и не заменила нам веселящий напиток скучным, хотя и сладким, компотом.
А водку я попробовал лет в шесть. Уже в Днепропетровске.
Нам привезли холодильник «Днепр», который выпускало одно из производств Южмаша. Привезли из Донецка. Поскольку продавался этот холодильник только по большому блату, а в Днепропетровске блата у родителей не было. Был в Донецке. Оттуда с оказией и привезли.
Рабочие внесли агрегат, мама подала им обед, поставила бутылку. Они говорят:
— Выпейте и вы с нами.
Мама говорит:
— У меня язва, а муж на работе.
Они:
— Мы без хозяев не будем. Пусть вон сын с нами садится.
Мама решила, что они шутят. Посадила меня за стол, поставила тарелку, рюмку. Они мне налили, чокнулись и выпили. За то, чтоб холодил. Рожи их перекосились. Я понял, что водка — штука невкусная, набил полный рот хлеба и влил туда же содержимое рюмки.
Впечатление это на меня произвело сильное. На всю оставшуюся жизнь, собственно. Иначе сейчас я бы это не вспоминал.
И ещё. Из всех спиртных напитков больше всего не люблю я шампанское и водку. Пить — пью. Но без любви.
#
- Александр Хургин. Деды воевали - 10 ноября 2022
- Александр Хургин. Ожидание войны - 3 мая 2021
- Мемуарные байки: продолжение, которое всё ещё следует - 27 октября 2020
Продолжение следует…










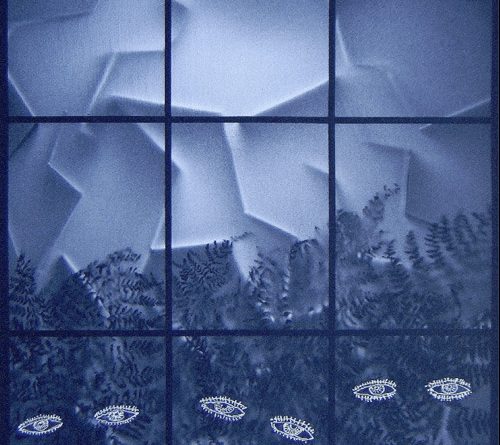


Поделитесь публикацией с друзьями